специально для промфронта
Лжестратеги и лжестратегии
О состоянии современной научной мысли и печальной практике разработки концепций развития. Статья доктора философских наук, профессора кафедры социальной философии МГУ
Андрея Ашкерова
Андрея Ашкерова
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПРОМФРОНТА
Лжестратеги и лжестратегии
О состоянии современной научной мысли и печальной практике разработки концепций развития
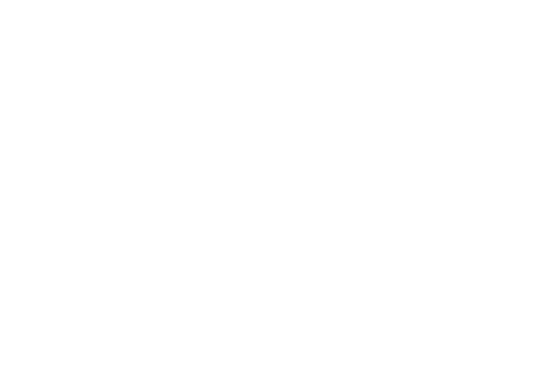
Андрей Ашкеров
Партийность существует везде. Существует она и среди тех, кто занимается инновациями.
Есть инноваторы-либералы и инноваторы-государственники, хотя очень часто либералы ближе к государству и, по сути, являются чиновниками. Но это чиновник, который из кожи вон лезет, чтобы доказать, что именно он «единственный европеец» и другому здесь не бывать. Во внутренней политике давно объявлен курс на консерватизм, никаких консервативных инноваторов у нас нет.
Каким бы оксюмороном не показалось кому-то это словосочетание, смысл его прост и лишён противоречий. Не только научно-технический поиск, но и институциональное строительство предполагает два сценария: либо обращение к заёмным образцам, либо открытие своих кулибиных, способных стоять у истоков дивного нового мира. Консервативные инновации ориентированы на второй вариант.
Есть инноваторы-либералы и инноваторы-государственники, хотя очень часто либералы ближе к государству и, по сути, являются чиновниками. Но это чиновник, который из кожи вон лезет, чтобы доказать, что именно он «единственный европеец» и другому здесь не бывать. Во внутренней политике давно объявлен курс на консерватизм, никаких консервативных инноваторов у нас нет.
Каким бы оксюмороном не показалось кому-то это словосочетание, смысл его прост и лишён противоречий. Не только научно-технический поиск, но и институциональное строительство предполагает два сценария: либо обращение к заёмным образцам, либо открытие своих кулибиных, способных стоять у истоков дивного нового мира. Консервативные инновации ориентированы на второй вариант.
Партийность технологий
С РОСНАНО и Сколково с самого начала было ясно, что они будут ориентироваться на подражание. (Которое, как известно, часто оборачивается низкопоклонством).
От АСИ ждали другого: не роли переводчиков и культуртрегеров, а именно что раскопок недооценённых в своё время изобретений. Ведь странное дело: кино, когда-то положенное на полку, давно вышло на экраны, а положенные на полку технологические решения так и остались невостребованными.
АСИ — это консерваторы поневоле, только в той степени, в какой места инноваторов-либералов уже были заняты. Было бы логично, что АСИ сделает ставку на разработки ВПК, но и этого не произошло.
Известно, что в наследство от СССР мы получили множество проектов и исследований, которые можно обобщённо назвать «советской алхимией». Речь шла о новых источниках энергии, о резервных возможностях человеческого сознания и альтернативных картинах исторического процесса. Всё это до сих пор требует изучения, поэтому резонно было предположить, что найдётся организация, которая за это возьмётся.
В конце концов, множество людей, включая Ходорковского, в своих воспоминаниях отмечали, что одним из главных мотивов для выбора в пользу капитализма была у его поколения невостребованность интеллектуальных заделов, созданных в системе советской науки. Однако соответствующие раскопки так и не состоялись, археология инноваций по-прежнему ждёт своих искателей.
С тем, что вместо археологии инноваций был взят курс на имитацию бурной научной деятельности и размножение научно-организационных и научно-технологических фейков, связано главное разочарование в АСИ. Даже на уровне стиля они предлагали не исследовательские продукты, а бизнес-планы, как видно, больше соответствовавшие представлениям авторов «стратегических инициатив» о специфике организации научной и технической деятельности.
Подобное несоответствие жанру, скорее всего, диктовалось внутренним нежеланием экспертов АСИ соотносить себя с учёными. Повсюду вокруг учёные воспринимались как неудачники, а хотелось быть победителями.
АСИ — это консерваторы поневоле, только в той степени, в какой места инноваторов-либералов уже были заняты. Было бы логично, что АСИ сделает ставку на разработки ВПК, но и этого не произошло.
Известно, что в наследство от СССР мы получили множество проектов и исследований, которые можно обобщённо назвать «советской алхимией». Речь шла о новых источниках энергии, о резервных возможностях человеческого сознания и альтернативных картинах исторического процесса. Всё это до сих пор требует изучения, поэтому резонно было предположить, что найдётся организация, которая за это возьмётся.
В конце концов, множество людей, включая Ходорковского, в своих воспоминаниях отмечали, что одним из главных мотивов для выбора в пользу капитализма была у его поколения невостребованность интеллектуальных заделов, созданных в системе советской науки. Однако соответствующие раскопки так и не состоялись, археология инноваций по-прежнему ждёт своих искателей.
С тем, что вместо археологии инноваций был взят курс на имитацию бурной научной деятельности и размножение научно-организационных и научно-технологических фейков, связано главное разочарование в АСИ. Даже на уровне стиля они предлагали не исследовательские продукты, а бизнес-планы, как видно, больше соответствовавшие представлениям авторов «стратегических инициатив» о специфике организации научной и технической деятельности.
Подобное несоответствие жанру, скорее всего, диктовалось внутренним нежеланием экспертов АСИ соотносить себя с учёными. Повсюду вокруг учёные воспринимались как неудачники, а хотелось быть победителями.
Из пробирки
Мысля в логике «либо юзер, либо лузер», деятели АСИ сами не заметили, что все их стратегические инициативы сводятся к простому заимствованию языка бизнес-презентации и применению этого языка к описаниям, для которых он непригоден.
Так возник главный проект АСИ — «Атлас новых профессий», в числе которых были придуманы «Проектировщик личной безопасности», «Личный тьютор по эстетическому развитию» и «Science-художник». Зачем оценивать перспективы квантового двигателя и думать о модификации критериев прогресса, если есть такие красоты?
Однако остаётся без ответа вопрос, чем в таком случае Агентство отличается от бессмысленного и беспощадного форума «Открытые инновации», где аналогичные попытки неуклюжего соотнесения искусства и науки давно стали неотъемлемой частью программы.
Случай АСИ показывает, что феномен нашего креативного класса очень прост. Вместо того, чтобы самому что-то выращивать из пробирки, он всё время доказывает, что из пробирки выращен он сам.
В признании примата принципа in vitro над принципом in vitro есть даже особый героизм, однако только до той поры, пока это не связано с саморазоблачением. Креакл, который на личном примере доказывает, что из пробирки он сам, скрывает отсутствие творческой фертильности.
Тот, кого зачали в пробирке, через пробирку и воспроизводится. Зачать по-другому он просто не может. Проще говоря, особенностью местного креаклитета является то, что он ничего не сотворяет и сотворить не может. Креаклитет довольно демонстративно об этом заявляет. При этом антитворчество агрессивно выдаётся за творчество, лишая последнее каких-либо шансов.
Эффект становится совсем уж волшебным, когда к слову «творчество» прибавляют другое волшебное слово — «стратегия». Казалось бы, ещё один шаг — и мы окажемся в блаженном царстве людей длинной воли.
Однако ничего этого не происходит: слово «стратегия» оказывается идеальным прикрытием для всё тех же растрат, распилов и нецелевых ассигнований. Так же, как и слово «инновация», это слово заставляет проверять карман на наличие бумажника: а вдруг его уже нету?
Случай АСИ показывает, что феномен нашего креативного класса очень прост. Вместо того, чтобы самому что-то выращивать из пробирки, он всё время доказывает, что из пробирки выращен он сам.
В признании примата принципа in vitro над принципом in vitro есть даже особый героизм, однако только до той поры, пока это не связано с саморазоблачением. Креакл, который на личном примере доказывает, что из пробирки он сам, скрывает отсутствие творческой фертильности.
Тот, кого зачали в пробирке, через пробирку и воспроизводится. Зачать по-другому он просто не может. Проще говоря, особенностью местного креаклитета является то, что он ничего не сотворяет и сотворить не может. Креаклитет довольно демонстративно об этом заявляет. При этом антитворчество агрессивно выдаётся за творчество, лишая последнее каких-либо шансов.
Эффект становится совсем уж волшебным, когда к слову «творчество» прибавляют другое волшебное слово — «стратегия». Казалось бы, ещё один шаг — и мы окажемся в блаженном царстве людей длинной воли.
Однако ничего этого не происходит: слово «стратегия» оказывается идеальным прикрытием для всё тех же растрат, распилов и нецелевых ассигнований. Так же, как и слово «инновация», это слово заставляет проверять карман на наличие бумажника: а вдруг его уже нету?
Автор как право имеющий
Не в последнюю очередь благодаря АСИ слово «инноватор» стало смешным и неприличным словом, вызывающим вместо былых надежд разве что кривую ухмылку.
Однако, как говорил классик, всё было бы смешно, когда бы не было так грустно. Если вместо создания инноваций на поток поставлено создание их симулякров, обществу рано или поздно придётся столкнуться с тем, что оно производит собственный кризис. Начавшееся в прошлом году грандиозное падение курса национальной валюты не в последнюю очередь связано именно с этим, а не с ценами на нефть. Мы слишком долго не хотели отдавать себе отчёт в том, что с увлечением заняты производством кризиса.
За последние годы, несмотря на все многочисленные разговоры о патриотизме, не сформировалась уважительного отношения к автору — к тому, кто что-то создаёт в любой области. Без уважение к автору невозможно и серьёзное отношение к гражданину. Одно невозможно без другого.
В нашем обществе автор, если он, конечно, не поэт или композитор-песенник — новый лишний человек. Права автора учитываются минимально, несмотря на принятие соответствующих законов. Это вопрос культуры, ориентированной на прилавок, а не права.
Наряду с трудовым кодексом, сегодня необходим кодекс авторского права, который изменил бы отношение к роли автора в обществе. Стоит держать в голове, что отношение к автору — показатель того, насколько общество развито. Если автор — почётная роль, общество может считаться развитым, если нет — увы.
За последние годы, несмотря на все многочисленные разговоры о патриотизме, не сформировалась уважительного отношения к автору — к тому, кто что-то создаёт в любой области. Без уважение к автору невозможно и серьёзное отношение к гражданину. Одно невозможно без другого.
В нашем обществе автор, если он, конечно, не поэт или композитор-песенник — новый лишний человек. Права автора учитываются минимально, несмотря на принятие соответствующих законов. Это вопрос культуры, ориентированной на прилавок, а не права.
Наряду с трудовым кодексом, сегодня необходим кодекс авторского права, который изменил бы отношение к роли автора в обществе. Стоит держать в голове, что отношение к автору — показатель того, насколько общество развито. Если автор — почётная роль, общество может считаться развитым, если нет — увы.
Об истинном патриотизме
Желание принадлежать к кругу развитых стран связано отнюдь не только с раскладами международной политики.
Развитость предполагает общество, сплошь состоящее из независимых производителей. Их формирование должно стать общей целью «реформаторов» и «патриотов». К тому же сами независимые производители являются одновременно и теми, и другими.
Что такое патриотизм, как не ставка на самостоятельное производство какого бы то ни было продукта? Но не в этом ли и задача реформ, если они не являются простым набором ритуалов колониальной власти?
В какой-то момент очень модными стали разговоры о России как цивилизации. Но эти разговоры не шли дальше суммирования антропологических особенностей, фольклорных традиций и прочей этники. В действительности самостоятельная цивилизация — это просто самостоятельная система социокультурного производства. В отличие от «этники», социокультурное производство имеет дело не с данными, а с создаваемыми различиями.
Чем более рукотворными являются различия, тем более современной оказывается определённая цивилизация. Степень её независимости определяется способность преобразовывать «природные данности» в «избираемые ценности». Управлять всеми этими процессами — вот чем должны заниматься те, кто отождествляет себя со стратегическим мышлением.
При этом стратегия связана не только с пониманием, но с производством того, что отличает. В противном случае нет никаких стратегий, а есть разговоры о стратегиях, которые ведут идеологи.
Чем более рукотворными являются различия, тем более современной оказывается определённая цивилизация. Степень её независимости определяется способность преобразовывать «природные данности» в «избираемые ценности». Управлять всеми этими процессами — вот чем должны заниматься те, кто отождествляет себя со стратегическим мышлением.
При этом стратегия связана не только с пониманием, но с производством того, что отличает. В противном случае нет никаких стратегий, а есть разговоры о стратегиях, которые ведут идеологи.
Сдержки и противовесы внутреннего колониализма
Вопрос спорный, но принято считать, что первым «производство» и «ценности» объединил Пётр I. При этом в роли инноваторов для него выступали иностранцы, которые ставились в пример населению как «настоящие люди». Коренные жители отвечали на это ненавистью, даже посчитали Петра Антихристом.
С петровских времён стало принято считать, что преобразователь — это всегда до какой-то степени чужак в своей стране. Нередко так думают и сами реформаторы. При этом забывается о том, что иностранцы, начиная с Петра, не только антиподы местных, но и те, кого с местными скрещивают. Они тоже оказываются участниками эксперимента по гибридизации. В итоге, возник гибрид голландца и русского, не только культурный, но антропологический.
По-видимому, сам Пётр хотел превратить себя в пример такого гибрида, но в результате гибридизации менялись и народы-доноры. Скажем, голландцы и Голландия после петровских заимствований уже не могли оставаться прежними. Об этом забывают злопыхатели «вестернизации».
Ещё раньше, с XVI века, возникают немецкие слободы. С какой-то точки зрения, иностранцы стали новыми опричниками, ставшие альтернативой коренных жителей. Однако важнее, что в результате превращения иностранного в опричное режим внутренней колонизации обзавёлся своей системой «сдержек и противовесов».
Свой иностранец уже не враг, иностранный опричник уже не опричник, а «приглашённый специалист». Внутренний колониализм обнаруживает свой предел в гибридной идентичности русских немцев, русских голландцев, русских шведов. Эта гибридность быстро преодолевает рамки этнической принадлежности.
Постепенно речь начинает идти не об иноязычных и инородных средах, а о заёмных институтах, привитых к национальному древу. Пётр заимствует шведскую систему коллегий, и фактически делает административную вертикаль территорией «русской Швеции», а чиновников шведскими русскими. Поэтому он хотел, чтобы тот гибрид, который он воплощает, распространился.
В советские времена традиция развивается. Когда Сталин говорил о Ленине, что тот воплощал американскую деловитость с русским размахом, он не просто пел дифирамб вождю и учителю, а пытался тиражировать этот соответствующий подход.
Ещё раньше, с XVI века, возникают немецкие слободы. С какой-то точки зрения, иностранцы стали новыми опричниками, ставшие альтернативой коренных жителей. Однако важнее, что в результате превращения иностранного в опричное режим внутренней колонизации обзавёлся своей системой «сдержек и противовесов».
Свой иностранец уже не враг, иностранный опричник уже не опричник, а «приглашённый специалист». Внутренний колониализм обнаруживает свой предел в гибридной идентичности русских немцев, русских голландцев, русских шведов. Эта гибридность быстро преодолевает рамки этнической принадлежности.
Постепенно речь начинает идти не об иноязычных и инородных средах, а о заёмных институтах, привитых к национальному древу. Пётр заимствует шведскую систему коллегий, и фактически делает административную вертикаль территорией «русской Швеции», а чиновников шведскими русскими. Поэтому он хотел, чтобы тот гибрид, который он воплощает, распространился.
В советские времена традиция развивается. Когда Сталин говорил о Ленине, что тот воплощал американскую деловитость с русским размахом, он не просто пел дифирамб вождю и учителю, а пытался тиражировать этот соответствующий подход.
Франчайзинговая демократия
В момент создания Сколково существовали аналогичные ставки. Что-то подобное, скорее всего, предполагалось и в рамках создания АСИ. Правда, так и не выяснили, что с чем собираются скрещивать: деловитость с размахом или всё-таки педантичность.
Получилось, в итоге, что, чем больше ставки на деловитость и педантичность, тем больше размаха, а где размах, там и нецелевое использование средств. Это верно не только про Сколково, но и про РОСНАНО и АСИ.
Апофеозом их деятельности стали не перемены в инфраструктуре и укладе жизни, а Болотная площадь. Есть представление о том, что вышедшие на Болотную были стихийными революционерами и требовали перемен. Это совершенно не так. Фактически вышли те, кто капитулировал перед необходимостью создать что-нибудь, что сулило бы перемены. Вопрос тут даже не в принципиальной разнице между потреблением и производством инноваций, а в том, что социальная среда, поддерживаемая так называемыми инновационными центрами, ригидна и консервативна в худшем смысле слова.
Не перемен требуют сердца представителей этой среды, а воцарения нормальности. Чтобы всё было «как у людей», особенно с точки зрения политических институтов. Конечно, честные выборы лучше нечестных, но лозунг честных выборов никакого отношения к переменам не имеет. Современная Россия полностью зависима от институционального импорта, это страна франчайзинговой демократии.
Болотная площадь заявила о желании продолжать институциональный импорт до бесконечности. Казалось бы, заимствование социально-политических технологий можно было бы компенсировать оригинальными индустриальными технологиями. Однако и этого не происходит.
Апофеозом их деятельности стали не перемены в инфраструктуре и укладе жизни, а Болотная площадь. Есть представление о том, что вышедшие на Болотную были стихийными революционерами и требовали перемен. Это совершенно не так. Фактически вышли те, кто капитулировал перед необходимостью создать что-нибудь, что сулило бы перемены. Вопрос тут даже не в принципиальной разнице между потреблением и производством инноваций, а в том, что социальная среда, поддерживаемая так называемыми инновационными центрами, ригидна и консервативна в худшем смысле слова.
Не перемен требуют сердца представителей этой среды, а воцарения нормальности. Чтобы всё было «как у людей», особенно с точки зрения политических институтов. Конечно, честные выборы лучше нечестных, но лозунг честных выборов никакого отношения к переменам не имеет. Современная Россия полностью зависима от институционального импорта, это страна франчайзинговой демократии.
Болотная площадь заявила о желании продолжать институциональный импорт до бесконечности. Казалось бы, заимствование социально-политических технологий можно было бы компенсировать оригинальными индустриальными технологиями. Однако и этого не происходит.
Дурной синтез
Современная ситуация в корне отличается от той, что была во времена царской России. Тогда заимствованные из Византии элементы общественного устройства компенсировались техническими и научными открытиями, иногда настолько смелыми, что их можно сравнить разве что с религиозным откровением.
В Советском Союзе реализовывалась противоположная ставка: ставка на революционное отношение к общественным институтам контрастировала с чрезвычайно лёгким отношением к заимствованию индустриальных технологий, а впоследствии и медийных форматов. В какой-то момент большая часть производимой в СССР высокотехнологичной продукции массового спроса превратилась в клон моделей, которые создавались на Западе.
Постсоветская Россия позаимствовала у Советского Союза практику импорта индустриальных и информационных технологий (например, медиа-форматов), а у царской России — практику политического импорта (только в качестве прообраза была выбрана не Византия, а всё тот же Запад).
Сложился злокачественный альянс (дурной синтез) двух форм импортозависимого общества. Без разрушения этого альянса любое импортозамещение будет только лозунгом. Оно таковым и является. Вместо настоящего импортозамещения мы имеем правый поворот, который начался не в порядке реакции на Болотную площадь, а с самой Болотной площади.
Можно говорить о либеральной и консервативной версиях правого поворота, которые «обе хуже». В либеральной версии, как я уже сказал, делается ставка на продолжение институционального импорта. Чтобы жизнь была «как у людей», нужно создать у себя копии их институтов и тщательно следить за тем, чтобы они в точности повторяли оригиналы.
Понятно, что это заведомо ведёт к добровольному колониализму. Такова логика правого меньшинства. Правое большинство отвечает на это требованием потребительских товаров на уровне мировых стандартов. Благодаря этому в России появляются сборочные цеха для товаров и изделий, производимых, чтобы массовый россиянин чувствовал себя «как в европах».
Постсоветская Россия позаимствовала у Советского Союза практику импорта индустриальных и информационных технологий (например, медиа-форматов), а у царской России — практику политического импорта (только в качестве прообраза была выбрана не Византия, а всё тот же Запад).
Сложился злокачественный альянс (дурной синтез) двух форм импортозависимого общества. Без разрушения этого альянса любое импортозамещение будет только лозунгом. Оно таковым и является. Вместо настоящего импортозамещения мы имеем правый поворот, который начался не в порядке реакции на Болотную площадь, а с самой Болотной площади.
Можно говорить о либеральной и консервативной версиях правого поворота, которые «обе хуже». В либеральной версии, как я уже сказал, делается ставка на продолжение институционального импорта. Чтобы жизнь была «как у людей», нужно создать у себя копии их институтов и тщательно следить за тем, чтобы они в точности повторяли оригиналы.
Понятно, что это заведомо ведёт к добровольному колониализму. Такова логика правого меньшинства. Правое большинство отвечает на это требованием потребительских товаров на уровне мировых стандартов. Благодаря этому в России появляются сборочные цеха для товаров и изделий, производимых, чтобы массовый россиянин чувствовал себя «как в европах».
Фрустрация импортозависимости
Статус реципиента социальных и технологических благ в обоих случаях порождает фрустрацию.
Меньшинство видит её исток в косном и не модернизируемом большинстве, а большинство — в европейских ценностях, которые манят и обманывают. Что бы ни говорили, но строго говоря, в вопросе отношения к импорту между большинством и меньшинством имеется полнейший консенсус.
Норма выражается одновременно как правовой принцип и стандарт потребления. Между тем, конфликт между нормой и трансформацией очень серьёзен. Если ты хочешь нормы — ты будешь сопротивляться переменам, в том числе технологическим, если ты хочешь перемен — ты будешь ломать нормы.
Однако оказалось, что не только моральное большинство, о котором пекутся консервативные публицисты, но и креативный класс, который возник в результате деятельности различных инновационных центров, выбирая между трансформацией и нормой, выбирает норму. И в своих представлениях о норме средний креакл куда больший консерватор, чем упомянутые консервативные публицисты.
Креакловы представления о норме берут начало в представлениях о распорядке среднеевропейской повседневности, каковой этот распорядок предстал перед глазами советского туриста образца семидесятых. Тогда произошёл своеобразный импринтинг: то, что увидел этот турист, стало образом, по которому кроится отрез «нормальной жизни» для не одного поколения.
Норма выражается одновременно как правовой принцип и стандарт потребления. Между тем, конфликт между нормой и трансформацией очень серьёзен. Если ты хочешь нормы — ты будешь сопротивляться переменам, в том числе технологическим, если ты хочешь перемен — ты будешь ломать нормы.
Однако оказалось, что не только моральное большинство, о котором пекутся консервативные публицисты, но и креативный класс, который возник в результате деятельности различных инновационных центров, выбирая между трансформацией и нормой, выбирает норму. И в своих представлениях о норме средний креакл куда больший консерватор, чем упомянутые консервативные публицисты.
Креакловы представления о норме берут начало в представлениях о распорядке среднеевропейской повседневности, каковой этот распорядок предстал перед глазами советского туриста образца семидесятых. Тогда произошёл своеобразный импринтинг: то, что увидел этот турист, стало образом, по которому кроится отрез «нормальной жизни» для не одного поколения.
Два консерватизма
По сути, мы имеем не один консерватизм, а два. Консерватизм «основной» (или «осевой») в России часто совершенно не противоречит консерватизму сливок городского общества. Взаимное наложение этих двух консерватизмов по сути дела превращает «производство изменений» в почти невозможную затею.
Однако, как и многое другое невозможное, это производство необходимо.
Главный его враг — вся система неофеодализма: вотчины и кормления, должностная рента, а главное — человечки, расставленные по ключевым постам. Вот мы с тобой где-то учились или ты мне в те же семидесятые гарнитур помог покупать, давай я отблагодарю тебя должностью и т. д. Если что-то и модернизируется у нас по-настоящему, так вот эта вот должностная рента. И способы её извлечения.
Вся эта система, конечно, является квазимонархической, но это монархия без царя в голове. И она, конечно, чрезвычайно сопротивляется любым инновациям. В лучшем случае государство как коллективный неофеодал может выступать потребителем инноваций, но откуда они берутся коллективному неофеодалу невдомёк.
Мы даже не дотягиваем до того уровня, который был во времена абсолютизма, в том числе российского.
Тогда, чтобы стать доказательством научного факта лабораторная деятельность должна была превратиться до какой-то степени в шоу. Это было шоу стихий, веществ, элементов и приспособлений, напоминало крепостной театр, разыгрывавший представление перед сиятельным взором феодала.
Главный его враг — вся система неофеодализма: вотчины и кормления, должностная рента, а главное — человечки, расставленные по ключевым постам. Вот мы с тобой где-то учились или ты мне в те же семидесятые гарнитур помог покупать, давай я отблагодарю тебя должностью и т. д. Если что-то и модернизируется у нас по-настоящему, так вот эта вот должностная рента. И способы её извлечения.
Вся эта система, конечно, является квазимонархической, но это монархия без царя в голове. И она, конечно, чрезвычайно сопротивляется любым инновациям. В лучшем случае государство как коллективный неофеодал может выступать потребителем инноваций, но откуда они берутся коллективному неофеодалу невдомёк.
Мы даже не дотягиваем до того уровня, который был во времена абсолютизма, в том числе российского.
Тогда, чтобы стать доказательством научного факта лабораторная деятельность должна была превратиться до какой-то степени в шоу. Это было шоу стихий, веществ, элементов и приспособлений, напоминало крепостной театр, разыгрывавший представление перед сиятельным взором феодала.
Григорий Сорока. Вид на плотину в усадьбе Спасское Тамбовской губернии. 1840, холст, масло, 68x88 см. Государственный Русский музей
Гаджеты и реакция
Сегодня научно-техническая эволюция приняла удобную форму гаджета. Повертеть гаджет в руках означает принять посильное участие в судьбах мира и прогресса.
Можно сказать, что в таком виде она предстаёт перед всеми и теперь любой обладатель айфона — сиятельный князь, перед которым техника демонстрирует свои чудеса. Однако в этой логике обладатель верховной власти должен требовать максимум возможностей по превращению прогресса в увеселение.
Вспомним, например, как легко, беря в руку айфон, вживался в образ мальчика кудрявого, резвого Медведев в эпоху своего президентства.
Однако не отстаёт от него и любой другой обладатель детища Стива Джобса. Технологии придают вещам товарный вид. Чем больше вещь отличается понятной и легко считываемой «затейливостью», тем лучше её можно продать.
Это значит, технологии стали играть роль упаковки, но эта упаковка не снаружи, а внутри.
Если продолжать сравнение с абсолютизмом, нужно помнить, что тогдашние увеселительные декорации легко превращались в города, а не наоборот, как мы привыкли думать сейчас. Во всех других смыслах «потёмкинские деревни» — это просто метафора, придуманная, чтобы опорочить светлейшего князя, который выступал основателем и по сей день существующих городов.
Современные феодалы даже близко не выдерживают сравнения с фаворитом Екатерины II. Однако тому есть и объективные причины: потёмкинской деревней «в плохом смысле» стали сами вещи.
Если в историческом феодализме земельная рента превращала политику в бесконечный спор о наследстве, то теперь предметом ренты выступает сама политика как поиск самых долгосрочных способы спекулировать на наследии.
Такова ситуация в России. Однако не лучше она и на Западе, где объектом ренты стало само инновационное производство. Чем больше инноваций, тем более устойчивым и неизменным оказывается система социального неравенства. Эти тенденции соотносится с общим положением дел, при котором научно-технический прогресс обесценивает продукцию промышленного производства. В результате, эта продукция дешевеет и теряет свой удельный вес в ВВП. (Тогда как «экономика услуг» не развивается и не дешевеет).
Вспомним, например, как легко, беря в руку айфон, вживался в образ мальчика кудрявого, резвого Медведев в эпоху своего президентства.
Однако не отстаёт от него и любой другой обладатель детища Стива Джобса. Технологии придают вещам товарный вид. Чем больше вещь отличается понятной и легко считываемой «затейливостью», тем лучше её можно продать.
Это значит, технологии стали играть роль упаковки, но эта упаковка не снаружи, а внутри.
Если продолжать сравнение с абсолютизмом, нужно помнить, что тогдашние увеселительные декорации легко превращались в города, а не наоборот, как мы привыкли думать сейчас. Во всех других смыслах «потёмкинские деревни» — это просто метафора, придуманная, чтобы опорочить светлейшего князя, который выступал основателем и по сей день существующих городов.
Современные феодалы даже близко не выдерживают сравнения с фаворитом Екатерины II. Однако тому есть и объективные причины: потёмкинской деревней «в плохом смысле» стали сами вещи.
Если в историческом феодализме земельная рента превращала политику в бесконечный спор о наследстве, то теперь предметом ренты выступает сама политика как поиск самых долгосрочных способы спекулировать на наследии.
Такова ситуация в России. Однако не лучше она и на Западе, где объектом ренты стало само инновационное производство. Чем больше инноваций, тем более устойчивым и неизменным оказывается система социального неравенства. Эти тенденции соотносится с общим положением дел, при котором научно-технический прогресс обесценивает продукцию промышленного производства. В результате, эта продукция дешевеет и теряет свой удельный вес в ВВП. (Тогда как «экономика услуг» не развивается и не дешевеет).
Урбанистика и импортозамещение
Большой вопрос, что оставят после себя те, кто относится к инфраструктуре как к декорации и выступает новыми кочевниками, для которых единственной прочной вещью является финансовый капитал.
Сегодня модны разговоры об урбанистике, то есть о реорганизации жизни посредством внедрения не существовавших раньше градостроительных элементов. При этом именно сами разговоры оказываются главнейшим урбанистическим достижением эпохи, не идущей в своих преобразовательных фантазиях дальше сноса ларьков и мощения плитки.
Градостроительная реальность устремлена всё к той же норме среднеевропейского города. В остальном трансформация городской среды в той же столице (переоблицовка входов в метро, велодорожки и пешеходные зоны, сезонные растения в кадках) соответствует всё той же реализации грёз побывавших в капстране в каком-нибудь далёком 1979-м году.
Говоря по-другому, современный горожанин искушён в спорах о том, как что-либо сделать правильно, но эта правильность берёт начало в патриархальных впечатлениях из папиного «позавчера». С наукой то же самое. Вместо того, чтобы выводить на авансцену экспериментальные формы реальности, нам выкатывают роботы, иллюстрирующие идею технического бума в стране, побеждённой в войне (Япония).
В итоге, мы донашиваем даже не свои собственные представления европейскости, а то, что нам досталось от предков. В этом присутствует элемент трогательного переноса конфликта отцов и детей из XIX в XXI век.
Нам часто подчёркивают разницу: мол, вот молодая генерация горожан, которые автоматически отождествляются с носителями нового и современного, а есть какие-то ретрограды, борющиеся с европами. На самом деле никакого разделения нет. Дети «лучших отцов» вместо того, чтобы служить в армии, дислоцируются в тех самых европах, с которыми борются отцы.
Но это только полдела. Сам по себе спор «отцов» и «детей» является всего лишь спором о вкусах. Он возникает не потому, что младшие действуют иначе, чем старшие, а именно потому, что они действуют одинаково и мешают друг другу.
Не хочу показаться пророком, но именно креаклы, которые пытаются перехватить у отцов право на то, чтобы действовать именем инноваций, окажутся со временем худшими ретроградами. Если сегодня у них и имеется какая-то ненависть к отцам, вплеснувшаяся в эпоху зимних протестов 2011—2012 годов, то исключительно по поводу того, как следовать чужому опыту.
«Отцы» хотели сохранить монополию на импорт, «дети» не хотят следовать опыту отцов. В ответ на этот протест «детей» возник курс на импортозамещение. Однако в стране нет той социальной среды, которая хотела, а главное, могла бы «импортозамещать». Если говорить об импортозамещении всерьёз, речь в первую должна идти именно об этой среде. И для этого нужно совершенно другое понимание задач урбанистики.
Градостроительная реальность устремлена всё к той же норме среднеевропейского города. В остальном трансформация городской среды в той же столице (переоблицовка входов в метро, велодорожки и пешеходные зоны, сезонные растения в кадках) соответствует всё той же реализации грёз побывавших в капстране в каком-нибудь далёком 1979-м году.
Говоря по-другому, современный горожанин искушён в спорах о том, как что-либо сделать правильно, но эта правильность берёт начало в патриархальных впечатлениях из папиного «позавчера». С наукой то же самое. Вместо того, чтобы выводить на авансцену экспериментальные формы реальности, нам выкатывают роботы, иллюстрирующие идею технического бума в стране, побеждённой в войне (Япония).
В итоге, мы донашиваем даже не свои собственные представления европейскости, а то, что нам досталось от предков. В этом присутствует элемент трогательного переноса конфликта отцов и детей из XIX в XXI век.
Нам часто подчёркивают разницу: мол, вот молодая генерация горожан, которые автоматически отождествляются с носителями нового и современного, а есть какие-то ретрограды, борющиеся с европами. На самом деле никакого разделения нет. Дети «лучших отцов» вместо того, чтобы служить в армии, дислоцируются в тех самых европах, с которыми борются отцы.
Но это только полдела. Сам по себе спор «отцов» и «детей» является всего лишь спором о вкусах. Он возникает не потому, что младшие действуют иначе, чем старшие, а именно потому, что они действуют одинаково и мешают друг другу.
Не хочу показаться пророком, но именно креаклы, которые пытаются перехватить у отцов право на то, чтобы действовать именем инноваций, окажутся со временем худшими ретроградами. Если сегодня у них и имеется какая-то ненависть к отцам, вплеснувшаяся в эпоху зимних протестов 2011—2012 годов, то исключительно по поводу того, как следовать чужому опыту.
«Отцы» хотели сохранить монополию на импорт, «дети» не хотят следовать опыту отцов. В ответ на этот протест «детей» возник курс на импортозамещение. Однако в стране нет той социальной среды, которая хотела, а главное, могла бы «импортозамещать». Если говорить об импортозамещении всерьёз, речь в первую должна идти именно об этой среде. И для этого нужно совершенно другое понимание задач урбанистики.
Федеральные антрепренёры
Почему нет достаточно заметной среды, которая была бы заинтересована в импортозамещении?
Не в последнюю очередь потому, что отечественное общество поиздержалось в плане талантов. Крах двух государств на протяжении одного только XX века не мог обойтись без последствий. Что ни говори, мы имеем дело с болезненной травмой, и она отражается на многом.
В частности, крах государства резонирует с видоизменением критериев социального отбора. То, что отличало негативный отбор, становится достоянием позитивного отбора и наоборот.
Добродетель, конечно, возникала, в итоге, из необходимости, как это всегда бывает. Возможно, те, кто попадали на место лучших после 1917-го или 1991-го, оказывались даже лучше тех, кто мог бы быть на их месте. Однако представления об общем благе, в том числе, том благе, которое несёт научно-техническое развитие, становились всё более утопическими и одновременно неуместными.
Неслучайно сегодня так сложно выделить лучших и от этой проблемы отделываются, вводя формальные системы оценки типа ЕГЭ. Вопрос о лучших представителях общества тонет в пучине релятивизации: лучшие для кого? для чего? зачем?
Другая проблема в том, что люди избегают роли субъектов. Авторство воспринимается как требование стать жертвой. Отсюда проблема с пониманием предназначения. Человек может работать курьером и даже не догадываться о своих способностях. А может догадываться и быть в ситуации, когда ему всё равно проще работать курьером. Ибо работаешь курьером, несёшь издержки, связанные с творческой деятельностью, не работаешь — несёшь.
Государству следовало бы задуматься о введении института федеральных антрепренёров, которые были бы заняты поиском талантов в области науки и техники. Однако куда проще проводить конкурсы песни и пляски.
В частности, крах государства резонирует с видоизменением критериев социального отбора. То, что отличало негативный отбор, становится достоянием позитивного отбора и наоборот.
Добродетель, конечно, возникала, в итоге, из необходимости, как это всегда бывает. Возможно, те, кто попадали на место лучших после 1917-го или 1991-го, оказывались даже лучше тех, кто мог бы быть на их месте. Однако представления об общем благе, в том числе, том благе, которое несёт научно-техническое развитие, становились всё более утопическими и одновременно неуместными.
Неслучайно сегодня так сложно выделить лучших и от этой проблемы отделываются, вводя формальные системы оценки типа ЕГЭ. Вопрос о лучших представителях общества тонет в пучине релятивизации: лучшие для кого? для чего? зачем?
Другая проблема в том, что люди избегают роли субъектов. Авторство воспринимается как требование стать жертвой. Отсюда проблема с пониманием предназначения. Человек может работать курьером и даже не догадываться о своих способностях. А может догадываться и быть в ситуации, когда ему всё равно проще работать курьером. Ибо работаешь курьером, несёшь издержки, связанные с творческой деятельностью, не работаешь — несёшь.
Государству следовало бы задуматься о введении института федеральных антрепренёров, которые были бы заняты поиском талантов в области науки и техники. Однако куда проще проводить конкурсы песни и пляски.
Что дальше?
Участие в определении ставок и критериев научно-технического прогресса — вопрос выживания. Вместо этого у нас скорее склонны к тому, чтобы отказаться от этих ставок вообще — и не по тем причинам, которые значимы для защитников флоры и фауны.
Мир принимает всё больше издержек от своего превращения в придаток двигателя внутреннего сгорания. Все возможности, которые предлагал ДВЗ, исчерпаны или почти исчерпаны (как некогда были исчерпаны возможности парового котла). Однако альтернатив ДВЗ нет, как нет альтернатив массе других приспособлений, устройств и препаратов, без которых якобы невозможно представить нашу современность.
Проблема в том, что в этом, как и во всех других случаях, безальтернативность является ложной. Дела обстоят так, что современность держится именно на этих, отвергнутых, альтернативах.
Другая проблема — полуколониальный статус РФ. Готовы ли мы это признать или не хотим, она существует. И заявляет о себе тем больше, чем больше мы хотим сделать вид, что её «более не существует».
Если вы живете в полуколониальной стране, ваши возможности для изобретений открытий существенно ограничены. Ваша жизнь устроена так, что вы не только не можете, но и не хотите влиять на развитие технологий. Ваше место в пищевой цепочке современной цивилизации напрямую зависит от вашего отказа менять что-либо в её устройстве.
В результате вам кажется, что ставки заранее определены: раз есть айфончик, значит, нет айфончику альтернативы, а, следовательно, мы должны мерить прогресс количеством пикселей, памяти, энергопотребления и т. д.
Многие из тех, что зовут себя «стратегами», даже не думают об этом, а, между тем, речь о главном условии, благодаря которому действия хоть в какой-то степени могут приобрести стратегическое измерение.
Проблема в том, что в этом, как и во всех других случаях, безальтернативность является ложной. Дела обстоят так, что современность держится именно на этих, отвергнутых, альтернативах.
Другая проблема — полуколониальный статус РФ. Готовы ли мы это признать или не хотим, она существует. И заявляет о себе тем больше, чем больше мы хотим сделать вид, что её «более не существует».
Если вы живете в полуколониальной стране, ваши возможности для изобретений открытий существенно ограничены. Ваша жизнь устроена так, что вы не только не можете, но и не хотите влиять на развитие технологий. Ваше место в пищевой цепочке современной цивилизации напрямую зависит от вашего отказа менять что-либо в её устройстве.
В результате вам кажется, что ставки заранее определены: раз есть айфончик, значит, нет айфончику альтернативы, а, следовательно, мы должны мерить прогресс количеством пикселей, памяти, энергопотребления и т. д.
Многие из тех, что зовут себя «стратегами», даже не думают об этом, а, между тем, речь о главном условии, благодаря которому действия хоть в какой-то степени могут приобрести стратегическое измерение.
